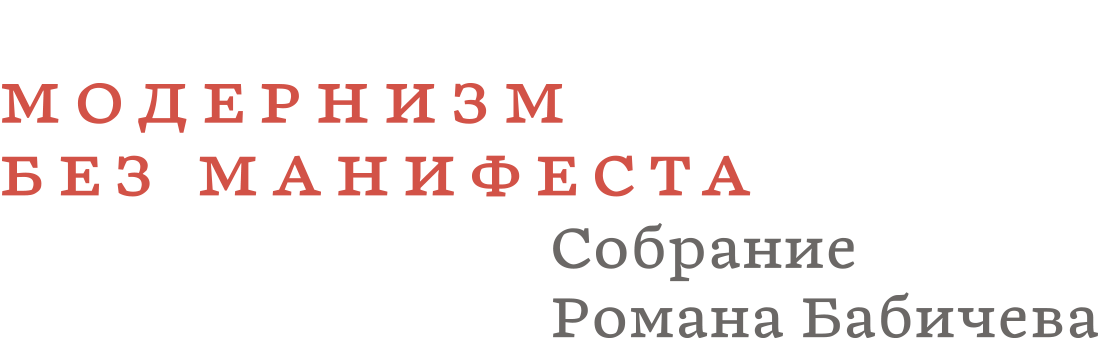МОДЕРНИЗМ БЕЗ МАНИФЕСТА. СОБРАНИЕ РОМАНА БАБИЧЕВА ЧАСТЬ I
МОДЕРНИЗМ БЕЗ МАНИФЕСТА. СОБРАНИЕ РОМАНА БАБИЧЕВА ЧАСТЬ I
МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Директор
Зураб Церетели
Исполнительный директор
Василий Церетели
Первый заместитель директора
Манана Попова
Заместители директора
Людмила Андреева
Алексей Новоселов
Георгий Паташури
Директор
Зураб Церетели
Исполнительный директор
Василий Церетели
Первый заместитель директора
Манана Попова
Заместители директора
Людмила Андреева
Алексей Новоселов
Георгий Паташури
КУРАТОРСКАЯ ГРУППА
Роман Бабичев
Надя Плунгян
Александра Селиванова
Валентин Дьяконов
Ольга Давыдова
Мария Силина
Архитектор проекта
Алексей Подкидышев
Роман Бабичев
Надя Плунгян
Александра Селиванова
Валентин Дьяконов
Ольга Давыдова
Мария Силина
Архитектор проекта
Алексей Подкидышев
Проблема применимости термина «модернизм» к советскому искусству обсуждается в нашей стране уже не одно десятилетие. Причина, по которой термин остается спорным - печально известная антиформалистическая кампания 1930-х, которая продолжилась в годы холодной войны под знаменем борьбы с модернизмом. В десятках монографий тех лет советская критика активно утверждала понятие «модернизм» как негативный ярлык. Его называли «расчеловеченным» пространством «антиискусства», а «безыдейный» интерес художников к проблемам формы описывался, как западная диверсия против «содержательного» искусства социалистического реализма.
В официальных изданиях 1930–1970-х советское искусство представлялось герметичным монолитом, неуязвимым для внешних влияний, а главное – лишенным динамики и внутреннего развития. Движущей силой истории оставалась «борьба за реализм», где «передовые» художники побеждали «отсталые» и «патологические» направления. Все это надолго отложило предметный разговор о взаимовлиянии западных и советских художественных процессов.
Стереотипы о советском искусстве живы и сейчас. Коллективная память почти не видит преемственности между отдельными точками в истории культуры, но сохраняет принцип мышления оппозициями. Русский модерн противопоставляется конструктивизму, эпоха сороковых – «суровому стилю»: художники делятся на представителей «авангарда» и «арьергарда», на первый, второй и третий ряд. Этому подходу порой следуют и крупные музеи, игнорируя в постоянных экспозициях «незначительные» стороны советского искусства.
Важной независимой силой, которая уже в XX веке позволила частично пересмотреть эти стереотипы и повлиять на музейную политику, стали личные коллекции, предлагающие прочтение советского архива вне партийных иерархий. Собрание Романа Бабичева, представленное на этой выставке, позволяет не только увидеть разнообразие модернизмов советской эпохи, но и проследить в их спектре ряд сквозных тенденций, восходящих к началу столетия. Этот взгляд на советский модернизм можно назвать взглядом из символистской перспективы.
В 1932 году творческие объединения в СССР были запрещены. Их заменил подконтрольный партии Союз художников, созданный для разработки платформы социалистического реализма. Мы назвали выставку «Модернизм без манифеста», так как главной проблемой коллекции Бабичева является взаимосвязь "невидимых" после 1932 года пост-авангардных художественных сообществ, чьи декларации формулировались уже не в слове, а в самой живописной манере. Надежда Плунгян
Панно Георгия Рублева написаны для оформления Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве. Крупнейшее культурное событие оттепели, фестиваль вернул СССР к повестке интернационализма, что отражается у Рублева многочисленными цитатами из мировых изобразительных систем, достойных художника круга "Мира искусства". Барочный принцип изображения четырех сторон света подчеркивает вновь обнаруженные советской властью и советским человеком претензии на центральное положение в общественной и политической жизни планеты. Валентин Дьяконов
В официальных изданиях 1930–1970-х советское искусство представлялось герметичным монолитом, неуязвимым для внешних влияний, а главное – лишенным динамики и внутреннего развития. Движущей силой истории оставалась «борьба за реализм», где «передовые» художники побеждали «отсталые» и «патологические» направления. Все это надолго отложило предметный разговор о взаимовлиянии западных и советских художественных процессов.
Стереотипы о советском искусстве живы и сейчас. Коллективная память почти не видит преемственности между отдельными точками в истории культуры, но сохраняет принцип мышления оппозициями. Русский модерн противопоставляется конструктивизму, эпоха сороковых – «суровому стилю»: художники делятся на представителей «авангарда» и «арьергарда», на первый, второй и третий ряд. Этому подходу порой следуют и крупные музеи, игнорируя в постоянных экспозициях «незначительные» стороны советского искусства.
Важной независимой силой, которая уже в XX веке позволила частично пересмотреть эти стереотипы и повлиять на музейную политику, стали личные коллекции, предлагающие прочтение советского архива вне партийных иерархий. Собрание Романа Бабичева, представленное на этой выставке, позволяет не только увидеть разнообразие модернизмов советской эпохи, но и проследить в их спектре ряд сквозных тенденций, восходящих к началу столетия. Этот взгляд на советский модернизм можно назвать взглядом из символистской перспективы.
В 1932 году творческие объединения в СССР были запрещены. Их заменил подконтрольный партии Союз художников, созданный для разработки платформы социалистического реализма. Мы назвали выставку «Модернизм без манифеста», так как главной проблемой коллекции Бабичева является взаимосвязь "невидимых" после 1932 года пост-авангардных художественных сообществ, чьи декларации формулировались уже не в слове, а в самой живописной манере. Надежда Плунгян
Панно Георгия Рублева написаны для оформления Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве. Крупнейшее культурное событие оттепели, фестиваль вернул СССР к повестке интернационализма, что отражается у Рублева многочисленными цитатами из мировых изобразительных систем, достойных художника круга "Мира искусства". Барочный принцип изображения четырех сторон света подчеркивает вновь обнаруженные советской властью и советским человеком претензии на центральное положение в общественной и политической жизни планеты. Валентин Дьяконов
ПРОЛОГ
МОДЕРН: НА ПУТИ К МОДЕРНИЗМУ
Эпоха модерна – эпоха нового «культурного ренессанса», границы которой можно определить 1890–1910 годами (условный рубеж – 1914, начало Первой мировой войны). Именно на фоне модерна, доминирующего стилистического направления рубежа XIX–XX столетий, берет исток то пробудившееся чувство современности, иконография и визуальный язык которого включали порой прямо противоположные принципы понимания прошлого, времени и пространства. Сам же модерн стал кульминационным воплощением романтического идеализма предшествовавших веков.
Амплитуда эстетических, пластических ориентиров и связанных с ними художественных направлений в искусстве 1890-х–1910-х годов чрезвычайно широка. Однако атмосфера, в которой взлетал маятник крайних устремлений, была единой и цельной. В России увлечение новейшими французскими течениями и западными открытиями было характерно как для романтиков-символистов «Мира искусства» и «Голубой розы», русских импрессионистов «Союза русских художников», так и для футуристов и неопримитивистов – художников «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста». Пульсация общей «точки отправления» – притягательной мечты о новом мифотворчестве, о создании самодостаточной реальности художественного мира искусства, – с разными модификациями ощутима во всех творчески живых поисках начала XX века.
В соответствии с этой характеристикой зал «Модерн: на пути к модернизму» ориентирован на обнаружение поэтико-декоративной стихии и лирически субъективного мировоззрения, которые были присущи первому этапу проникновения новаторских тенденций в отечественное искусство в конце XIX века. Совпадая со стилистическим расцветом модерна, связаны они с символизмом и русским вариантом импрессионизма, произведения последователей которых представлены в пространстве этого зала. Творчество экспонируемых мастеров так или иначе совпадает с художественными тенденциями двух крупнейших выставочных объединений эпохи модерна – с «Миром искусства» (1898–1904; 1906; 1910–1924) и «Союзом русских художников» (СРХ, 1903–1924). Московский СРХ, изначально мыслившийся как преемник петербургского «Мира искусства» в области передовых на тот момент творческих идеалов, отличался по своей эстетической программе от утонченной культуры «невских пиквикианцев» (А. Бенуа). По сравнению со стилизаторской, более графической манерой мирискусников, чья образная поэтика отмечена творческой ностальгией по воображаемой реальности, в искусстве пленэристов СРХ преобладало реалистическое пейзажное начало, что давало им большую живописность, но при этом и большую консервативность в вопросах натуроподобия. Образный строй произведений, представленных в собрании Романа Бабичева, синтезирует и то, и другое направление в развитии русского модерна, позволяя менее конфликтно взглянуть на органичную атмосферу искусства рубежа XIX–XX столетий, в которой романтико-реалистический дух не противоречил интенсивным в своей выразительности декоративно-пластическим поискам. Искусство эпохи модерна, выводящее художественную поэтику визуального языка на новый уровень ассоциативности, вслед за Андреем Белым вполне оправданно может быть названо «годами зорь», «узловым пунктом» творческой биографии XX века – источником тех внутренних эмоциональных и пластических колебаний, которые предвещают «эру новых восприятий» раннего авангарда. Ольга Давыдова
Амплитуда эстетических, пластических ориентиров и связанных с ними художественных направлений в искусстве 1890-х–1910-х годов чрезвычайно широка. Однако атмосфера, в которой взлетал маятник крайних устремлений, была единой и цельной. В России увлечение новейшими французскими течениями и западными открытиями было характерно как для романтиков-символистов «Мира искусства» и «Голубой розы», русских импрессионистов «Союза русских художников», так и для футуристов и неопримитивистов – художников «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста». Пульсация общей «точки отправления» – притягательной мечты о новом мифотворчестве, о создании самодостаточной реальности художественного мира искусства, – с разными модификациями ощутима во всех творчески живых поисках начала XX века.
В соответствии с этой характеристикой зал «Модерн: на пути к модернизму» ориентирован на обнаружение поэтико-декоративной стихии и лирически субъективного мировоззрения, которые были присущи первому этапу проникновения новаторских тенденций в отечественное искусство в конце XIX века. Совпадая со стилистическим расцветом модерна, связаны они с символизмом и русским вариантом импрессионизма, произведения последователей которых представлены в пространстве этого зала. Творчество экспонируемых мастеров так или иначе совпадает с художественными тенденциями двух крупнейших выставочных объединений эпохи модерна – с «Миром искусства» (1898–1904; 1906; 1910–1924) и «Союзом русских художников» (СРХ, 1903–1924). Московский СРХ, изначально мыслившийся как преемник петербургского «Мира искусства» в области передовых на тот момент творческих идеалов, отличался по своей эстетической программе от утонченной культуры «невских пиквикианцев» (А. Бенуа). По сравнению со стилизаторской, более графической манерой мирискусников, чья образная поэтика отмечена творческой ностальгией по воображаемой реальности, в искусстве пленэристов СРХ преобладало реалистическое пейзажное начало, что давало им большую живописность, но при этом и большую консервативность в вопросах натуроподобия. Образный строй произведений, представленных в собрании Романа Бабичева, синтезирует и то, и другое направление в развитии русского модерна, позволяя менее конфликтно взглянуть на органичную атмосферу искусства рубежа XIX–XX столетий, в которой романтико-реалистический дух не противоречил интенсивным в своей выразительности декоративно-пластическим поискам. Искусство эпохи модерна, выводящее художественную поэтику визуального языка на новый уровень ассоциативности, вслед за Андреем Белым вполне оправданно может быть названо «годами зорь», «узловым пунктом» творческой биографии XX века – источником тех внутренних эмоциональных и пластических колебаний, которые предвещают «эру новых восприятий» раннего авангарда. Ольга Давыдова
МЕЖДУ СЕЗАННИЗМОМ И АКАДЕМИЕЙ: ОСНОВАНИЯ НОВОЙ ШКОЛЫ
"Бубновый валет" был одним из немногих дореволюционных объединений, чье влияние на художественный процесс 1920–1930-х годов не подвергалось сомнению. Рядом с «безыдейным» символизмом художников «Голубой розы» и «Мира искусства» мастера «Валета» долгое время воспринимались марксистской критикой скорее благосклонно – как уверенно владеющие кистью «реалисты», освоившие достижения французской школы и готовые передать свой опыт «молодым кадрам».
Бывшие организаторы «Валета» – Илья Машков, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский и Александр Куприн в 1920-х стали ведущими преподавателями московского Вхутемаса, а Роберт Фальк побывал деканом живописного факультета. Их ученики восприняли сезаннизм, наравне с супрематизмом, кубизмом и неоклассикой, как готовую систему пространственных и цветовых соотношений, которая к 1930-м даже успела обветшать и казалась только этапом на пути к новому стилю.
В этом зале живопись «валетов» соединена с неосезаннистскими опытами мастеров следующих поколений и «пролетарским кубизмом» в раннесоветской скульптуре, который воплотился в ленинском плане монументальной пропаганды. Если скульптор Борис Королев разработал свой революционный футуризм в полемике с академией начала века, то Нина Нисс-Гольдман восприняла новую форму непосредственно от художников Парижской школы: в 1900-х годах она работала в «Улье» вместе с Ханой Орловой, Жаком Липшицем, Александром Архипенко и Осипом Цадкиным. Надежда Плунгян
Бывшие организаторы «Валета» – Илья Машков, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский и Александр Куприн в 1920-х стали ведущими преподавателями московского Вхутемаса, а Роберт Фальк побывал деканом живописного факультета. Их ученики восприняли сезаннизм, наравне с супрематизмом, кубизмом и неоклассикой, как готовую систему пространственных и цветовых соотношений, которая к 1930-м даже успела обветшать и казалась только этапом на пути к новому стилю.
В этом зале живопись «валетов» соединена с неосезаннистскими опытами мастеров следующих поколений и «пролетарским кубизмом» в раннесоветской скульптуре, который воплотился в ленинском плане монументальной пропаганды. Если скульптор Борис Королев разработал свой революционный футуризм в полемике с академией начала века, то Нина Нисс-Гольдман восприняла новую форму непосредственно от художников Парижской школы: в 1900-х годах она работала в «Улье» вместе с Ханой Орловой, Жаком Липшицем, Александром Архипенко и Осипом Цадкиным. Надежда Плунгян
ПРОЕКТЫ «ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ» И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Мастера высокого модернизма – Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Павел Филонов – направили свои силы на создание авторских художественных школ, которые на гребне революции стали своего рода ордерными системами нового искусства. Становление их учеников происходило в совсем других обстоятельствах – в условиях государственного управления культурой. Выпускникам Вхутемаса-Вхутеина приходилось не только искать точки пересечения супрематизма, сезаннизма и конструктивизма, но и согласовывать эти методы с системой государственного заказа.
Главным требованием власти было создание «сюжетно-тематической картины», которая смогла бы отразить «советскую действительность». При этом сами представления о том, каким должен быть новый «реализм», на рубеже 1920–1930-х были все еще очень разнообразными. Общее для «поколения Вхутемас» стремление создавать масштабные и новаторские произведения на какое-то время совпало с массовым призывом художников освещать процессы индустриализации и социалистического строительства. Живописцы и графики групп «ОСТ», «Круг художников», «Нож», «Рост» отправлялись на дальние стройки, делали зарисовки на заводах, в шахтах, колхозах и в коммунах, однако очень быстро выяснилось, что «реальность» должна была отражаться не в документальном, а в партийном зеркале. Черты модернистского эксперимента все чаще критиковались, как «искажение действительности», а ближе к середине 1930-х открыто объявлялись вредительством и политической диверсией, за которое можно было поплатиться жизнью.
В этом зале собраны ранние версии «тематической картины» Москвы и Ленинграда: это неожиданно супрематический рабочий поселок Мартироса Сарьяна, фовистски лиловые железнодорожники Николая Витинга, неопримитивистский шедевр Владимира Прошкина «Калошный цех» и цветные полотна Александра Русакова «Завод» и «Испытание глиссера», искрящиеся динамизмом и юмором. Путешествия на край советского мира удивляли могуществом огромной разомкнутой природы: в пейзажах Алексея Рыбникова и Владимира Тягунова чувствуется метафизическая тревога человека перед лицом стихии, битву с которой СССР пока еще может проиграть. Надежда Плунгян
Главным требованием власти было создание «сюжетно-тематической картины», которая смогла бы отразить «советскую действительность». При этом сами представления о том, каким должен быть новый «реализм», на рубеже 1920–1930-х были все еще очень разнообразными. Общее для «поколения Вхутемас» стремление создавать масштабные и новаторские произведения на какое-то время совпало с массовым призывом художников освещать процессы индустриализации и социалистического строительства. Живописцы и графики групп «ОСТ», «Круг художников», «Нож», «Рост» отправлялись на дальние стройки, делали зарисовки на заводах, в шахтах, колхозах и в коммунах, однако очень быстро выяснилось, что «реальность» должна была отражаться не в документальном, а в партийном зеркале. Черты модернистского эксперимента все чаще критиковались, как «искажение действительности», а ближе к середине 1930-х открыто объявлялись вредительством и политической диверсией, за которое можно было поплатиться жизнью.
В этом зале собраны ранние версии «тематической картины» Москвы и Ленинграда: это неожиданно супрематический рабочий поселок Мартироса Сарьяна, фовистски лиловые железнодорожники Николая Витинга, неопримитивистский шедевр Владимира Прошкина «Калошный цех» и цветные полотна Александра Русакова «Завод» и «Испытание глиссера», искрящиеся динамизмом и юмором. Путешествия на край советского мира удивляли могуществом огромной разомкнутой природы: в пейзажах Алексея Рыбникова и Владимира Тягунова чувствуется метафизическая тревога человека перед лицом стихии, битву с которой СССР пока еще может проиграть. Надежда Плунгян
ВОКРУГ «ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА». ГЕРОИ ТРИДЦАТЫХ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Одной из загадок государственного заказа рубежа 1920–1930-х годов были дебаты о «пролетарском искусстве», восходящие к теории классовой культуры Г. Плеханова и А. Богданова. Как и идея «сюжетно-тематической картины», представления о подлинно пролетарском образе стремительно менялись: одни видели в нем символ классовой борьбы, другие – предлог для поэтизации «нового быта» советской деревни или конструктивистского города. Отдельной и постоянно обсуждаемой темой было отражение современности в монументальном полотне или фреске.
В картинах, собранных в этом зале, раскрыта тема пролетарского типажа или пролетарской повседневности, но их нельзя назвать монументальными. Каждое по-своему насыщено социальной конкретикой, а герои независимы и субъектны. Здесь отразился краткий и интересный этап советского искусства, параллельный модернизму Веймарской Германии. Тоталитарный канон еще не был найден, художники искали опору в самых разных исторических стилях, не теряя интереса к гротеску. В величественной и тревожной народной сцене Лебедева «Смерть командира. Реквием» соединились крестьянский эпос и неоромантизм тридцатых. «Привал в горах» Костяницына иконописно-декоративен. В портретах Зефирова угадывается работа с наследием Шардена, в полотнах Рублева и Шубиной – диалог неопримитива, экспрессионизма и приемов Матисса. Еще более сложный синтез иронии, прямолинейности и плакатности – физкультурница Монина, хрупкий памятник пролетарке-интеллектуалке двадцатых годов.
Образы первого послереволюционного поколения противоречивы и автобиографичны. Восходящая к народникам идея «сознательного пролетариата» была быстро стерта из истории: на ее место пришло требование «искусства, понятного массам» и концепция «народности», которая на практике оборачивалась усредненным штампом «социалистического реализма». Надежда Плунгян
В картинах, собранных в этом зале, раскрыта тема пролетарского типажа или пролетарской повседневности, но их нельзя назвать монументальными. Каждое по-своему насыщено социальной конкретикой, а герои независимы и субъектны. Здесь отразился краткий и интересный этап советского искусства, параллельный модернизму Веймарской Германии. Тоталитарный канон еще не был найден, художники искали опору в самых разных исторических стилях, не теряя интереса к гротеску. В величественной и тревожной народной сцене Лебедева «Смерть командира. Реквием» соединились крестьянский эпос и неоромантизм тридцатых. «Привал в горах» Костяницына иконописно-декоративен. В портретах Зефирова угадывается работа с наследием Шардена, в полотнах Рублева и Шубиной – диалог неопримитива, экспрессионизма и приемов Матисса. Еще более сложный синтез иронии, прямолинейности и плакатности – физкультурница Монина, хрупкий памятник пролетарке-интеллектуалке двадцатых годов.
Образы первого послереволюционного поколения противоречивы и автобиографичны. Восходящая к народникам идея «сознательного пролетариата» была быстро стерта из истории: на ее место пришло требование «искусства, понятного массам» и концепция «народности», которая на практике оборачивалась усредненным штампом «социалистического реализма». Надежда Плунгян
МЕЖДУ «РЕАЛИЗМОМ» И «НАТУРАЛИЗМОМ»
«Борьба за реализм» в искусстве двадцатых годов происходила на фоне голода, коллективизации, «генеральных чисток» партийного аппарата и судов над «вредителями» и «саботажниками». Не допуская документального или художественного освещения этих процессов, партийная критика постаралась монополизировать сами понятия «реальность» и «действительность». Сконструированная «подлинная реальность» социалистического завтрашнего дня отражалась в пышных жанровых полотнах, воспевающих обильное питание, радостное выполнение трудового плана, рождение детей и «незабываемые встречи» советских чиновников.
Хотя «оптимизм» этих картин счастливой советской жизни противопоставлялся враждебному «натурализму», своеобразной рамой для них служил политически нейтральный пейзаж. Именно в этой нише стремились работать многие художники бывшего «Бубнового Валета», так и не дойдя до «социалистического реализма». Природа в их поздних полотнах тоже стремится к избыточности: это мощные дубы, декоративные букеты, огромные «советские хлебы» и залитые солнцем колхозные поля.
Манера московских сезаннистов заметно изменилась к концу двадцатых годов. Жесткая ритмичность композиций и неопримитивистская палитра преобразилась в дробную, вибрирующую манеру, многим близкую позднему символизму. Характерно «неустойчивая» живопись Лентулова и Осмеркина этих лет заставляет вспомнить о позднем интересе передвижников к импрессионистам, а ведь именно эти два направления активно сталкивались советской критикой 1930–1950-х как символы идейно противоположных лагерей – прогрессивного «реализма» и буржуазного «формализма». Неустойчивым стало и социальное положение «валетов». У Ильи Машкова был репрессирован сын, Александр Осмеркин был обвинен в космополитизме и лишен средств к существованию за «недостаточную квалификацию», а Роберт Фальк, вернувшись «формалистом» из долгой парижской командировки (1928–1937), ушел в тень до середины 1950-х, когда его живопись была вновь разгромлена Никитой Хрущевым и стала частью неофициального искусства. Надежда Плунгян
Хотя «оптимизм» этих картин счастливой советской жизни противопоставлялся враждебному «натурализму», своеобразной рамой для них служил политически нейтральный пейзаж. Именно в этой нише стремились работать многие художники бывшего «Бубнового Валета», так и не дойдя до «социалистического реализма». Природа в их поздних полотнах тоже стремится к избыточности: это мощные дубы, декоративные букеты, огромные «советские хлебы» и залитые солнцем колхозные поля.
Манера московских сезаннистов заметно изменилась к концу двадцатых годов. Жесткая ритмичность композиций и неопримитивистская палитра преобразилась в дробную, вибрирующую манеру, многим близкую позднему символизму. Характерно «неустойчивая» живопись Лентулова и Осмеркина этих лет заставляет вспомнить о позднем интересе передвижников к импрессионистам, а ведь именно эти два направления активно сталкивались советской критикой 1930–1950-х как символы идейно противоположных лагерей – прогрессивного «реализма» и буржуазного «формализма». Неустойчивым стало и социальное положение «валетов». У Ильи Машкова был репрессирован сын, Александр Осмеркин был обвинен в космополитизме и лишен средств к существованию за «недостаточную квалификацию», а Роберт Фальк, вернувшись «формалистом» из долгой парижской командировки (1928–1937), ушел в тень до середины 1950-х, когда его живопись была вновь разгромлена Никитой Хрущевым и стала частью неофициального искусства. Надежда Плунгян
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ОРДЕР
Архитектурная графика, вошедшая в коллекцию Романа Бабичева, отражает совершенно самостоятельный, особый и практически неизученный путь отечественной архитектуры от неоклассики 1900-х годов к советскому постконструктивизму, «монументальному ордеру» 1930-х. Параллельно с экспериментами конструктивистов и рационалистов, активному выстраиванию диалога с функционалистами, Ле Корбюзье и лидерами Баухауза, шли другие процессы, которые никак не вмещаются в прокрустово ложе «авангарда», «школы Жолтовского» или «эклектики Щусева».
Листы Ивана Фомина, графика и проекты его ученицы Софии Кауфман показывают исходную точку поисков «новой античности», весьма далекую от распространенного в 1910-е годы увлечения сухой неоклассикой. Фомина и его круг привлекают монументальные, тяжеловесные дорические формы, визионерский плотный классицизм в интерпретации Леду и Булле, русский ампир, - все интерпретации классики, стремящиеся к простым геометрическим объемам: кубу, цилиндру, полусфере. Именно эти первоформы лягут в основу «пролетарской дорики» Фомина. И именно его инструментарий 1920-х, основанный на анализе, обобщении и перекомпоновке классических элементов, понимаемых как простая нерасчлененная на детали геометрия, окажется созвучен поискам нового советского стиля в начале 1930-х. Приблизительно те же сверхмонументальные образы волновали в 1910-е и Бориса Иофана, работавшего в Италии под началом Армандо Бразини и находившегося под влиянием другого «бумажного архитектора» - Пиранези. В 1930-е эти его поиски были оценены в самом значимом проекте эпохи – конкурсе на Дворец Советов.
Советский «монументальный ордер» в архитектуре, опираясь на офорты XVII-XVIII веков и полуабстрактные, передаваемые в гравюрах и нечетких фотографиях, образы древнегреческих и древнеримских руин, стер границу между архитектурной фантазией и, собственно, архитектурным проектом. Ярко это видно и в работах Меера Айзенштадта, с конца 1920-х конструировавшего свою автономную реальность из архитектонов Малевича, античных обломков и фигур физкультурников и рабочих. Его графические листы и гипсовые, бронзовые модели – это наброски «невозможной» архитектуры и скульптуры, в концентрированном виде передают то, что в 1930-е было уже разлито в воздухе, но так и не стало материей, оставшись в коллективном бессознательном – в кино, праздничных декорациях в городе и шоколадных обертках с видом Дворца Советов. Александра Селиванова
Листы Ивана Фомина, графика и проекты его ученицы Софии Кауфман показывают исходную точку поисков «новой античности», весьма далекую от распространенного в 1910-е годы увлечения сухой неоклассикой. Фомина и его круг привлекают монументальные, тяжеловесные дорические формы, визионерский плотный классицизм в интерпретации Леду и Булле, русский ампир, - все интерпретации классики, стремящиеся к простым геометрическим объемам: кубу, цилиндру, полусфере. Именно эти первоформы лягут в основу «пролетарской дорики» Фомина. И именно его инструментарий 1920-х, основанный на анализе, обобщении и перекомпоновке классических элементов, понимаемых как простая нерасчлененная на детали геометрия, окажется созвучен поискам нового советского стиля в начале 1930-х. Приблизительно те же сверхмонументальные образы волновали в 1910-е и Бориса Иофана, работавшего в Италии под началом Армандо Бразини и находившегося под влиянием другого «бумажного архитектора» - Пиранези. В 1930-е эти его поиски были оценены в самом значимом проекте эпохи – конкурсе на Дворец Советов.
Советский «монументальный ордер» в архитектуре, опираясь на офорты XVII-XVIII веков и полуабстрактные, передаваемые в гравюрах и нечетких фотографиях, образы древнегреческих и древнеримских руин, стер границу между архитектурной фантазией и, собственно, архитектурным проектом. Ярко это видно и в работах Меера Айзенштадта, с конца 1920-х конструировавшего свою автономную реальность из архитектонов Малевича, античных обломков и фигур физкультурников и рабочих. Его графические листы и гипсовые, бронзовые модели – это наброски «невозможной» архитектуры и скульптуры, в концентрированном виде передают то, что в 1930-е было уже разлито в воздухе, но так и не стало материей, оставшись в коллективном бессознательном – в кино, праздничных декорациях в городе и шоколадных обертках с видом Дворца Советов. Александра Селиванова
ТЕАТР МОДЕРНИЗМА
В истории советского искусства период середина 1930-х-начало 1940-х годов был временем ужесточения культурной политики, которая соединилось с предвоенным историческим надломом. В 1935–1938 прошло несколько громких антиформалистических кампаний, которые закончились для художников расстрелами и тюремными сроками. Были окончательно уничтожены издательство Academia и театр Мейерхольда. Теперь термин «формализм» охватывал не только конструктивистские течения, но весь спектр модернистского эксперимента.
В то же время именно тогда художественный язык эпохи достиг крайней степени декоративности, которая по-своему объединила сталинское барокко и камерные полотна опальных «формалистов». Историзм и ретроспективизм дополняли восприятие мира, как картонной кулисы, и в этой новой театральности, пронизывающей все сферы искусства, снова сказывались влияния символизма. Есть некоторая сценичность и в волжской панораме со средневековой башней Льва Соловьева, и в футуристическом «разрезе» платформы с поездом в картине Ефросинии Ермиловой-Платовой. Зоопарки и пустынные пейзажи Антонины Софроновой в своей глубокой таинственности смыкаются с сериями «воображаемых портретов» Михаила Соколова.
Своего рода манифестом десятилетия можно считать зловещую «Иволгу» Георгия Рублева (1937): художник проходит по краю приемов ар деко и Новой Вещественности, соединяя предметное и мертвое в тревожном мерцании огненного фона. Большинство этих картин были бы отклонены на выставочных комиссиях Союза художников: они оставались в мастерских как памятники «опасного формализма».
В европейском искусстве близкие процессы привели к расцвету сюрреалистической картины. В СССР можно говорить о спектре протосюрреалистических течений, которые нарастали к концу 1930-х. Своеобразное напряжение сверхреальности чувствуется и в картине Леонида Хорошкевича «Аэростат»: знакомые по ранним полотнам Александра Лабаса бесплотные объемы дирижаблей с пришествием Второй мировой войны становятся не механическими, а биоморфными, обретают массу и гигантизм. Надежда Плунгян
В то же время именно тогда художественный язык эпохи достиг крайней степени декоративности, которая по-своему объединила сталинское барокко и камерные полотна опальных «формалистов». Историзм и ретроспективизм дополняли восприятие мира, как картонной кулисы, и в этой новой театральности, пронизывающей все сферы искусства, снова сказывались влияния символизма. Есть некоторая сценичность и в волжской панораме со средневековой башней Льва Соловьева, и в футуристическом «разрезе» платформы с поездом в картине Ефросинии Ермиловой-Платовой. Зоопарки и пустынные пейзажи Антонины Софроновой в своей глубокой таинственности смыкаются с сериями «воображаемых портретов» Михаила Соколова.
Своего рода манифестом десятилетия можно считать зловещую «Иволгу» Георгия Рублева (1937): художник проходит по краю приемов ар деко и Новой Вещественности, соединяя предметное и мертвое в тревожном мерцании огненного фона. Большинство этих картин были бы отклонены на выставочных комиссиях Союза художников: они оставались в мастерских как памятники «опасного формализма».
В европейском искусстве близкие процессы привели к расцвету сюрреалистической картины. В СССР можно говорить о спектре протосюрреалистических течений, которые нарастали к концу 1930-х. Своеобразное напряжение сверхреальности чувствуется и в картине Леонида Хорошкевича «Аэростат»: знакомые по ранним полотнам Александра Лабаса бесплотные объемы дирижаблей с пришествием Второй мировой войны становятся не механическими, а биоморфными, обретают массу и гигантизм. Надежда Плунгян
ИСКУССТВО СОРОКОВЫХ ПЕРЕД ЛИЦОМ ОТТЕПЕЛИ
Если не самым крупным, то самым сплоченным художественным объединением 1920–1930-х были «Четыре искусства». В числе лидеров группы были основатели «Голубой Розы», а в ее названии отразилась важная еще для эпохи модерна идея монументального синтеза живописи, скульптуры, архитектуры и музыки.
В 1935–1948 мастера «Четырех искусств» Владимир Фаворский и Лев Бруни возглавили Мастерскую монументальной живописи при Академии архитектуры, ответственную за оформление ВСХВ, плафоны и росписи московских фасадов в духе «советского ар деко». Одной из задач Мастерской стал поиск баланса интимности и монументальности в легальных пространствах советского искусства. В официальной риторике этот баланс определялся как «человечность» или «советский гуманизм», ведущий битву с абстрактным искусством.
В «правдивом гуманизме» 1930–1940-х были заложены главные приметы оттепельной живописи – ее эмоциональная приподнятость и интимность при пластической одномерности. Крупный, почти кинематографичный план обеспечивал минимальность монтажного приема, а залитое светом пространство не оставляло места даже для риторического конфликта. Важно отметить, что и сама эта одномерность была частью модернистской оптики.
В этом зале мы показали развитие общей тенденции «новой лиричности» от 1930-х к 1950-м на примерах живописцев из противоположных лагерей. Это «советский импрессионизм» знаменитых антимодернистов Павла Бенькова и Александра Герасимова, натюрморты Павла Кузнецова и Юрия Пименова и нежные полотна основателя ленинградского Детгиза Владимира Лебедева: они были написаны после антиформалистической кампании 1937–1938 года, заметно надломившей художника. Надежда Плунгян
В 1935–1948 мастера «Четырех искусств» Владимир Фаворский и Лев Бруни возглавили Мастерскую монументальной живописи при Академии архитектуры, ответственную за оформление ВСХВ, плафоны и росписи московских фасадов в духе «советского ар деко». Одной из задач Мастерской стал поиск баланса интимности и монументальности в легальных пространствах советского искусства. В официальной риторике этот баланс определялся как «человечность» или «советский гуманизм», ведущий битву с абстрактным искусством.
В «правдивом гуманизме» 1930–1940-х были заложены главные приметы оттепельной живописи – ее эмоциональная приподнятость и интимность при пластической одномерности. Крупный, почти кинематографичный план обеспечивал минимальность монтажного приема, а залитое светом пространство не оставляло места даже для риторического конфликта. Важно отметить, что и сама эта одномерность была частью модернистской оптики.
В этом зале мы показали развитие общей тенденции «новой лиричности» от 1930-х к 1950-м на примерах живописцев из противоположных лагерей. Это «советский импрессионизм» знаменитых антимодернистов Павла Бенькова и Александра Герасимова, натюрморты Павла Кузнецова и Юрия Пименова и нежные полотна основателя ленинградского Детгиза Владимира Лебедева: они были написаны после антиформалистической кампании 1937–1938 года, заметно надломившей художника. Надежда Плунгян
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»
Помимо «монументальной камерности», которая прослеживается в искусстве советского модернизма от 1930-х к 1960-м, эти два периода связывает еще одна тема – постепенное расширение пространства эскапизма и личного художественного поиска.
Одним из немногих московских художников, чье наследие можно увидеть, как непрерывный процесс модернистского эксперимента от символизма к футуризму и неоклассике, был Федор Платов – издатель футуристического альманаха «Пета», член ГАХН, участник ОСТ и Рабочей группы обжективистов. В 1930-х Платов был обвинен в формализме и лишен возможности выставляться, но продолжил самостоятельную работу. Его акварели, в течение 20 лет исследующие свойства одних и тех же объектов, напоминают эксперименты Моранди и Де Кирико или занятия лаборантов ГИНХУКа по выявлению прибавочного элемента живописи, но в целом реализуют его собственную программу. Платов был автором серии статей, посвященных вопросам монументальной формы, ордеру и проблеме масштаба: среди них «Опыт применения синтетической перспективы» и «Рисунок в свете законов физики». Важные для Платова категории – тонкость и прозрачность фактур, конструктивность и развеществленность, плотность и бесплотность – складываются в цельное повествование. Близкие вопросы некоторое время ставил ученик и ассистент Владимира Татлина, скульптор Алексей Зеленский. Его «Торс», собранный из контрастных пород дерева, решает проблему синтеза и диалога кубизма и неоклассицизма в новой декоративной или ордерной форме.
Требования единства художественного языка и борьба с абстрактным искусством объединили сталинскую и хрущевскую художественную политику. Обесценивание самостоятельной работы и личного художественного эксперимента встречало все большее сопротивление и порождало неофициальные сообщества. Одно из таких сообществ возникло вокруг мастерской скульптора Степан Эрьзи: в 1950 году он вернулся из Аргентины с запасами дерева кебрачо и работами, созданными за 20 лет эмиграции. Подобные примеры цельного художественного наследия были способны заменить экспозицию искусства XX века и породить новые этапы модернистской мысли. Надежда Плунгян
Одним из немногих московских художников, чье наследие можно увидеть, как непрерывный процесс модернистского эксперимента от символизма к футуризму и неоклассике, был Федор Платов – издатель футуристического альманаха «Пета», член ГАХН, участник ОСТ и Рабочей группы обжективистов. В 1930-х Платов был обвинен в формализме и лишен возможности выставляться, но продолжил самостоятельную работу. Его акварели, в течение 20 лет исследующие свойства одних и тех же объектов, напоминают эксперименты Моранди и Де Кирико или занятия лаборантов ГИНХУКа по выявлению прибавочного элемента живописи, но в целом реализуют его собственную программу. Платов был автором серии статей, посвященных вопросам монументальной формы, ордеру и проблеме масштаба: среди них «Опыт применения синтетической перспективы» и «Рисунок в свете законов физики». Важные для Платова категории – тонкость и прозрачность фактур, конструктивность и развеществленность, плотность и бесплотность – складываются в цельное повествование. Близкие вопросы некоторое время ставил ученик и ассистент Владимира Татлина, скульптор Алексей Зеленский. Его «Торс», собранный из контрастных пород дерева, решает проблему синтеза и диалога кубизма и неоклассицизма в новой декоративной или ордерной форме.
Требования единства художественного языка и борьба с абстрактным искусством объединили сталинскую и хрущевскую художественную политику. Обесценивание самостоятельной работы и личного художественного эксперимента встречало все большее сопротивление и порождало неофициальные сообщества. Одно из таких сообществ возникло вокруг мастерской скульптора Степан Эрьзи: в 1950 году он вернулся из Аргентины с запасами дерева кебрачо и работами, созданными за 20 лет эмиграции. Подобные примеры цельного художественного наследия были способны заменить экспозицию искусства XX века и породить новые этапы модернистской мысли. Надежда Плунгян
«СУРОВЫЙ СТИЛЬ» В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ
Возникновение «сурового стиля» и его утверждение в качестве официально санкционированного варианта социалистического реализма в эпоху развенчания культа личности Сталина проходило постепенно и сложно. В сфере искусства мы видим отражение того, что происходит в обществе: реабилитация невинных жертв сталинского режима сопровождается реабилитацией стилей, направлений и отдельных индивидуальностей в искусстве.
В авангарде этого процесса – новое поколение художников, занимавшееся не только выработкой адекватного оттепели стиля, но и поиском предшественников в советском искусстве. Самым масштабным событием эпохи становится выставка «ХХ лет МОССХ», запомнившаяся скандалом и массовыми запретами на профессию. Но ее важность еще и в том, что поколению 1950-х удалось вытащить на свет коллег, работавших в 1920-е.
На примере коллекции Романа Бабичева хорошо видно, насколько сильно художественное мышление официальных лидеров оттепельного искусство зависит от знакомства с фигуративными экспериментами предыдущих десятилетий. Эта зависимость четко проявлена в камерных вещах, создававшихся вне требований официального заказа. Поздний экспрессионизм Павла Никонова уходит корнями в живописные массы Александра Древина и Надежды Удальцовой тридцатых. Андрей Васнецов изучает опыт Константина Истомина и продолжает диалог с итальянскими и испанскими тенебристами. Николай Андронов адаптирует язык «бубнововалетцев» к эпохе частных пространств и ностальгической ретроспекции, характерной для официального станкового искусства оттепели. Валентин Дьяконов
В авангарде этого процесса – новое поколение художников, занимавшееся не только выработкой адекватного оттепели стиля, но и поиском предшественников в советском искусстве. Самым масштабным событием эпохи становится выставка «ХХ лет МОССХ», запомнившаяся скандалом и массовыми запретами на профессию. Но ее важность еще и в том, что поколению 1950-х удалось вытащить на свет коллег, работавших в 1920-е.
На примере коллекции Романа Бабичева хорошо видно, насколько сильно художественное мышление официальных лидеров оттепельного искусство зависит от знакомства с фигуративными экспериментами предыдущих десятилетий. Эта зависимость четко проявлена в камерных вещах, создававшихся вне требований официального заказа. Поздний экспрессионизм Павла Никонова уходит корнями в живописные массы Александра Древина и Надежды Удальцовой тридцатых. Андрей Васнецов изучает опыт Константина Истомина и продолжает диалог с итальянскими и испанскими тенебристами. Николай Андронов адаптирует язык «бубнововалетцев» к эпохе частных пространств и ностальгической ретроспекции, характерной для официального станкового искусства оттепели. Валентин Дьяконов
ПОЛОСА РАЗЛИЧЕНИЯ
Вопросы качества и сделанности снова начали занимать советских художников в эпоху оттепели, и ответы были найдены в прошлом – вернее, в начале ХХ века. Советское искусство было принципиально, программно несвободным: помимо политической цензуры, в процессе отбора тех или иных работ для выставок важнейшую роль играло их соответствие официальным повествованиям о прошлом и настоящем СССР. В эпоху позднего социализма, однако, художники, не собиравшиеся противопоставлять себя сложившейся системе отношений, соревновались в степени включения элементов свободного, внеполитического искусства в свои работы.
В противовес «полосе неразличения» - экспериментальной модели слияния искусства с жизнью, разрабатывавшейся в московском концептуализме – «левые» оттепели и застоя стихийно (то есть, неосознанно) создали «полосу различения», пространство пластических решений, позволявшее погружаться в ретроспективизм, не уходя из официально принятых понятий об эстетической определенности. Это позволяло им решать вопросы формы на базе понятного содержания. В этом зале мы видим примеры такого подхода – камерные вещи портретно-натюрмортного плана, где аранжировки цветовых пятен много важнее сюжетов и мотивов, остающихся, тем не менее, своеобразными манекенами для самовыражения художников. Валентин Дьяконов
В противовес «полосе неразличения» - экспериментальной модели слияния искусства с жизнью, разрабатывавшейся в московском концептуализме – «левые» оттепели и застоя стихийно (то есть, неосознанно) создали «полосу различения», пространство пластических решений, позволявшее погружаться в ретроспективизм, не уходя из официально принятых понятий об эстетической определенности. Это позволяло им решать вопросы формы на базе понятного содержания. В этом зале мы видим примеры такого подхода – камерные вещи портретно-натюрмортного плана, где аранжировки цветовых пятен много важнее сюжетов и мотивов, остающихся, тем не менее, своеобразными манекенами для самовыражения художников. Валентин Дьяконов
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ
В работах Дмитрия Краснопевцева, жанрово определяемых как метафизические натюрморты, сходятся важнейшие линии послевоенного советского искусства. Тут и «побег в культуру», осуществляемый разочарованной в революционных идеях интеллигенцией. И стремление найти пространство эстетической независимости, не жертвуя лирикой и диалогом со зрителем. И медитация на руины империй вкупе с пессимизмом, выражающемся в обращении к замкнутым, клаустрофобическим композициям, расположенным, кажется, прямо в вечности. В общем, метафизика как нечто, имеющее непосредственное отношение к меланхолии. благодаря живописи Джорджо де Кирико, была привлекательным модусом философствования и проявлялась не только у Краснопевцева. В этом зале ее влияние продлевается в натюрмортах Андрея Васнецова и композиции Андрея Гросицкого, на индустриальной фактуре утверждающего тезис о тщете всего сущего. Валентин Дьяконов
СОВЕТСКИЙ МОДЕРНИЗМ: ГРАФИКА
Пока внимание власти было сконцентрировано на производстве "тематической картины", по отношению к которой остальные виды искусства занимали подчиненное положение, графика долгие годы оставалась малозаметным экспериментальным пространством.
Именно в станковой и книжной графике второй половине столетия сохранялись и развивались многие находки довоенного модернизма, просматривалась преемственность школ и отдельных направлений. Помимо постконструктивистов и неоромантиков круга Владимира Фаворского и Алексея Кравченко, в графике вплоть до 1940–1960-х годов продолжали активно работать не только постсупрематисты и филоновцы, но и мастера группы графиков-документалистов "13" (Владимир Милашевский, Николай Кузьмин, Антонина Софронова), и уцелевшие участники бывшего "Маковца" и "Квартиры №5" (Лев Бруни, Петр Митурич), и поздние представители "Мира искусства" (Владимир Конашевич, Дмитрий Митрохин, Елизавета Кругликова), и бывшие художники «Детгиза» из круга Владимира Лебедева (Василий Курдов, Алексей Пахомов, Евгения Эвенбах).
Как и европейские мастера XX века, художники советского модернизма активно занимались поиском и обновлением забытых техник, многие из которых были именно графическими: монотипия, торцовая гравюра, сухая игла. Отдельно стоит выделить цветной эстамп - литографию, с которой была связана целая эра в истории советского искусства. В этом импровизированном хронологическом ряду графика выстраивается в собственную линию, параллельную логике основных залов нашей выставки. Надежда Плунгян
Именно в станковой и книжной графике второй половине столетия сохранялись и развивались многие находки довоенного модернизма, просматривалась преемственность школ и отдельных направлений. Помимо постконструктивистов и неоромантиков круга Владимира Фаворского и Алексея Кравченко, в графике вплоть до 1940–1960-х годов продолжали активно работать не только постсупрематисты и филоновцы, но и мастера группы графиков-документалистов "13" (Владимир Милашевский, Николай Кузьмин, Антонина Софронова), и уцелевшие участники бывшего "Маковца" и "Квартиры №5" (Лев Бруни, Петр Митурич), и поздние представители "Мира искусства" (Владимир Конашевич, Дмитрий Митрохин, Елизавета Кругликова), и бывшие художники «Детгиза» из круга Владимира Лебедева (Василий Курдов, Алексей Пахомов, Евгения Эвенбах).
Как и европейские мастера XX века, художники советского модернизма активно занимались поиском и обновлением забытых техник, многие из которых были именно графическими: монотипия, торцовая гравюра, сухая игла. Отдельно стоит выделить цветной эстамп - литографию, с которой была связана целая эра в истории советского искусства. В этом импровизированном хронологическом ряду графика выстраивается в собственную линию, параллельную логике основных залов нашей выставки. Надежда Плунгян