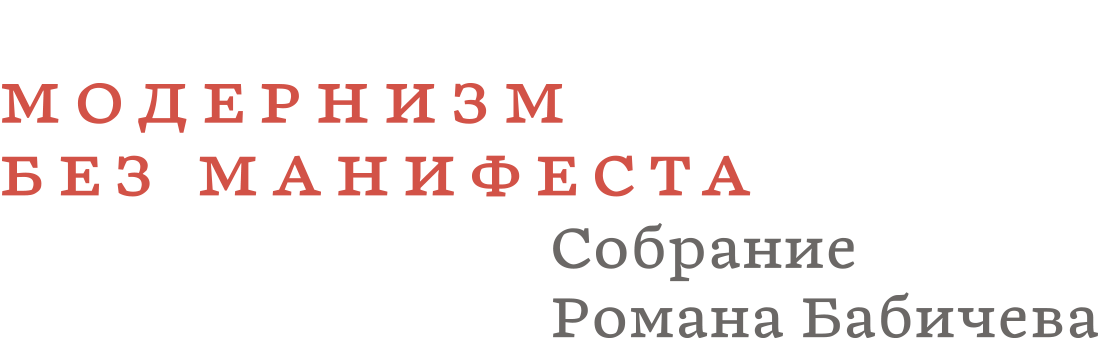АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ
Хищный глазомер простого собирателя
6.11.2017 FACEBOOK
6.11.2017 FACEBOOK
Я всегда знал, что у него чуть ли не лучшие ленинградцы, «круговцы» прежде всего. Они будут, в основном, «во второй серии» ( хотя есть и в нынешней экспозиции). Но несколько московских фаворитов впечатляют. Прежде всего Рублев, интересный во всех ипостасях, вплоть до поздней оформиловки. Не пройти мимо Д.Лебедева ( «смерть комиссара» для сов. искусства воистину как-то болезненно привлекательна), Кравченко, Ю.Разумовской, Монина, Ечеистова. Кравченко ( с его «американской готикой») и Ечеистов просто предстают по-новому. Как и Барто, Житомирский, И.Ефимов. Сильная сторона – нет зацикленности на «картине», собирается и архитектурная графика, и скульптура, вообще -отборнейшая.
Алексей Кравченко (1889–1940)
Нью-Йорк. Брод-стрит. 1929. Ксилография. 24×18,3 (20×15,1)
Что ж, такая вот пост-актуализация говорит о хорошем вкусе и глазе коллекционера.
Хотя, как мне представляется, автор предисловия, Н.Плунгян, немного перебарщивает с концептуализацией «высказывания собирателя»: высказываются прежде всего вещи, коллекционер, обладающий вкусом и глазом, помогает этому высказыванию реализоваться.
Когда Роман начинал, дискурс середины 20-х в его настоящем виде и не проклевывался. Великая подвижница Ольга Ройтенберг жизнь положила на вызволение большинства имен из забвения, однако в её времена не разобрались ещё и с классиками, до концептов руки не доходили. Да, был эвфемизм – третий путь. То есть между авангардом или официозом. Огородами. К Буденному – был такой анекдот. Так что третий, или «тихий», путь – это было до лучших времен. Они вроде бы наступили. Прошла пора и искусствоведческого квази-теоретизирования, стрельбы по большим площадям ( Малевич-Сталин, борьба за знамя между Сталиным и Троцким и пр.).
Хотя, как мне представляется, автор предисловия, Н.Плунгян, немного перебарщивает с концептуализацией «высказывания собирателя»: высказываются прежде всего вещи, коллекционер, обладающий вкусом и глазом, помогает этому высказыванию реализоваться.
Когда Роман начинал, дискурс середины 20-х в его настоящем виде и не проклевывался. Великая подвижница Ольга Ройтенберг жизнь положила на вызволение большинства имен из забвения, однако в её времена не разобрались ещё и с классиками, до концептов руки не доходили. Да, был эвфемизм – третий путь. То есть между авангардом или официозом. Огородами. К Буденному – был такой анекдот. Так что третий, или «тихий», путь – это было до лучших времен. Они вроде бы наступили. Прошла пора и искусствоведческого квази-теоретизирования, стрельбы по большим площадям ( Малевич-Сталин, борьба за знамя между Сталиным и Троцким и пр.).
Дмитрий Лебедев (1905-1987)
Смерть командира. Реквием. Около 1930. Холст, масло. 174,5×234
Роман угодил в сердцевину сегодняшнего дискурса об искусстве 20-30-х.
Удалось успеть на выставку «Модернизм без манифеста». Впечатление сильное. Роман Бабичев сделал большое дело. У него свой собирательский ракурс. Конечно, как собиратель он не проходит мимо супер имён ( есть отличные вещи Лентулова, например),но и не гоняется за ними во что бы то ни стало. Он ищет «своих», не столь востребованных в момент начала собирательства (сейчас, впрочем, и они вполне себе нарасхват).
Трудами таких коллекционеров, как Бабичев ( он, конечно, не один) и охотников за материалом, как О.Ройтенберг, подготовлена основа для поиска новых смыслов. Это очень важно – у нас любят концептуализировать без предмета, без опоры на материал. Теперь вот материал есть. И, надо сказать, уже много написано про поставангардные коллизии, про корреляции «наших»20-30-х с западными. По разным линиям – стилевым ( ар деко), институциональным, идеологическим ( искусство монументальных, то есть тоталитарных, эпох), культурно-антропологическим и пр. Так что задел есть. Н.Плунгян предлагает для этого материала новые рамки – модернизм. Собственно, об этом
уже много писали тоже. Термин – не хуже прочих, тем более, что артикулирует нашу привязку к транснациональному мейн-стриму, что всегда приятно. Однако пока что он - такой же мем, как и соцреализм, да и авангард тоже. Как ни смягчай это фраймирование привязкой – "без манифеста" ( «Модернизм без манифеста», так назвали выставку).
уже много писали тоже. Термин – не хуже прочих, тем более, что артикулирует нашу привязку к транснациональному мейн-стриму, что всегда приятно. Однако пока что он - такой же мем, как и соцреализм, да и авангард тоже. Как ни смягчай это фраймирование привязкой – "без манифеста" ( «Модернизм без манифеста», так назвали выставку).
Юлия Разумовская (1896-1987)
В трамвае. 1930-е. Холст, масло. 79×93
Что ж, модернизм так модернизм. Важно, что авторы статей видят вещи, а не только концепты, некоторые анализы очень интересны. Собственно, мини- конференция, состоявшаяся 4 ноября, была посвящена пристрелке к этим всем вопросам. У всех, у меня – в том числе, - есть свои представления о материале. Пока что все его придерживают. Показывают товар уголком, издалека, - дескать, ждите. И поделом: слишком много было стреляно по площадям, без всякой кучности. Ждем следующих серий бабичевского блокбастера: нужен материал для размышлений. Чего-чего, а материала у него вдосталь.
Ещё скажу: так получилось, что у Романа считанные шестидесятники, но лучшего отбора. Особенно - «черный» А.Васнецов, Бабичев вообще заставляет посмотреть на него по-новому. Это редкая вещь – собирательство не «по клеточкам» , а по глазу. Мандельштам писал о хищном глазомере простого столяра. Может, он имел в виду собирателя? ( шучу). Хищный – понятно, своего не упустит. Но глазомер – или его нет, или он есть. Тогда он общественно полезен. У Бабичева-то глазомер точно есть.
Ещё скажу: так получилось, что у Романа считанные шестидесятники, но лучшего отбора. Особенно - «черный» А.Васнецов, Бабичев вообще заставляет посмотреть на него по-новому. Это редкая вещь – собирательство не «по клеточкам» , а по глазу. Мандельштам писал о хищном глазомере простого столяра. Может, он имел в виду собирателя? ( шучу). Хищный – понятно, своего не упустит. Но глазомер – или его нет, или он есть. Тогда он общественно полезен. У Бабичева-то глазомер точно есть.
Андрей Васнецов (1924–2009)
Архангельское. 1987. Холст, масло. 100×130
Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева.
Часть II Ленинград
Часть II Ленинград
14.12.2017 FACEBOOK
Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева.
Часть II Ленинград
Часть II Ленинград
14.12.2017 FACEBOOK
Василий Беляшин (1874–1929)
Ночью в Петрограде. Памятник Александру III. 1910-е. Фанера, масло. 62,3×77
Не вопрошая гневно, не свидетельствуя, не призывая, а так вот – притулиться с мольбертом в тени, и писать себе Неву в корабликах… А как же – Большой дом, аккурат в те же годы возводившийся по проекту лучших питерских бывших конструктивистов? Тоже поговорим – потом. А пока несколько гурманских вишенок на торте – работы, которых не знал. В.Беляшин известен как мастер ернических, самоиздевательских автопортретов. Здесь показан его «Памятник Александру III» на Знаменской ещё площади – мощная скульптурная масса в вихре закрученной вокруг конки – абсолютно экспрессионистическая картина. Френц, директор Декоративного института, давший отличные образцы декоративного (light) конструктивизма, а потом тачавшего бесконечные штурмы Зимнего… У него какой-то очень теплый, человечный рисунок «В штабе корпуса»- обустроенный военный быт Первой Мировой, порядок, никаких тебе предчувствий грядущего хаоса. Но это так, личное.
Репрессии пошли, но непонятно, по крайней мере в изобразительном искусстве, – по какому принципу? Левизны? Классового происхождения? Кружковства? Что хотели художники? Что – власть? Почему многие бывшие авангардисты воодушевленно купились на культовость, на тотемность? Масса вопросов. Хочется на все ответить. В том числе и кураторам выставки. В настенных аппликациях в том числе. Я тоже кое-что выскажу. Но – в конце. Сначала – об общем впечатлении. Выставка в целом показалось мне уникально самодостаточной, интимной, какой-то гедонистической в своем внутреннем призыве видеть позитивное. Не в «историческом плане» (светлое будущее и пр.). А вот в настоящем, текущем – теплый день, друзья, Ленинград, ножка под юбкой, жизнь кое-как налаживается…
Бабичев второй раз подряд делает кассу ММОМА - зритель столь же охотно посещает экспозицию второй, ленинградской части его неиссякаемой коллекции. Значит, зацепило правильную, неслучайную, нетусовочную аудиторию. Кое о чем задумался и я : многие вещи знаю, но новая компоновка всегда способствует какой-то корректирующей работе сознания. Трюизм, но приходится напомнить: хорошо, когда мыслительные картины зависят от произведений, их новых связей, возникающих на стене. Хуже, когда мыслительные картины (концепты) развития искусства живут в голове сами по себе, в готовом, формульном виде, и никак не подвержены влиянию нового визуального опыта. Хоть голову разбей об эту самую выставочную стену. Я это к тому веду, что вт. пол. 20-х – 30-е гг. – сегодня самый концептоемкий материал нашего искусствоведения. Есть такое понятие – кражеёмкий. Почему бы не быть термину концептоемкость? То есть сама ситуация способствует концепторождению: надо как-то объяснить положение дел, которое сложилось в это десятилетие. Авангард вроде бы остановлен на лету (бегу), соцреализм ещё не затвердел бетонообразно.
Пелагея Шурига (1900–1980)
Восточная. 1958 Фарфор,
бесцветная глазурь. В. 23,5
бесцветная глазурь. В. 23,5
На выставке в целом лидируют три художника. Это Пелагея Шурига, не то чтобы недооцененный ( была выставка у нас в Русском), но с каждым новым показом набирающий исторический вес скульптор. Это Т.Купервассер (тоже много раз показанная, в частности, в ГРМ на выставке «Круг Петрова-Водкина»), на мой взгляд, центральная у нас фигура вт. пол. 20-30-х. Ну, и Э.Криммер, так же известный профессионалам (особенно как фарфорист), но здесь, пожалуй, впервые, в полный рост предстающий как живописец. Коллекционер осознанно сосредоточил на них внимание, это тот случай, когда ему удается корректировать писаную историю искусства. Во всяком случае, делать будущим историкам предложения (по расстановке акцентов), от которых они не смогут отказаться. Шурига – понятно, отдельный игрок, не командный.
Эдуард Криммер (1900–1974)
Портрет Ани Патерсон. 1957 Холст, масло. 47,5×43
Но вот Купервассер и Криммер – командные. Она – из коренных «круговцев», он – из малевичевского гнезда. Купервассер выросла в по-настоящему крупного мастера. Затем пожертвовала собой, чтобы прокормить семью, ушла в оформительство, предоставив позицию независимого художника мужу, А.Русакову. Но до этого создала ряд масштабных, мощных, я бы сказал, мужских вещей. Было ли в них «круговское»? Наверное. Но купервассеровское – в большей степени. Криммер являет пример наиболее мягкой, искренней интимизации супрематического импульса. Дело не только в фарфоре, главным образом – в живописи. Вот, наверное, лидеры в том плане, что выставка заставляет задуматься об их масштабе.
Татьяна Купервассер (1903–1973)
Религия – опиум народа. Начало 1930-х
Холст, масло. 124,5×84
Холст, масло. 124,5×84
С остальными всё яснее – все на своих местах. Остаётся только завидовать калибру коллекции - музейному ( если под музейным понимать некий идеальный уровень репрезентации). Круговцы чудо как хороши, Матвеев предстаёт уникальными вещами, Лебедев – тоже. Экспериментальная мастерская насколько уж показана-перепоказана,
но устроители выбрали из собрания правильные вещи. Для меня интересны цв. городские литографии Б.Ермолаева 50-х гг. – в них и рецепции «формализма», и какая-то жанровая точность, всё это позволяет увидеть в этих вещах ( а так же в литографиях Ведерникова
и др.) первых ласточек т.н. «современного стиля». Теперь о «концептах».
Владимир Лебедев (1891–1967)
Жница. 1929–1932. Дерево, масло. 19,7×30
Было бы странным рассматривать это искусство вне исторических контекстов, as it is. Есть искусство, которое затеняет эти контексты. Взять того же любимого круговцами Марке – между ранними эрмитажными вещами и «Алжирским портом» 1942 г. есть колористические и, возможно, мироощущенческие различия, но как-то проецировать на них событийность французской истории было бы слишком уж искусственным ходом. У нас другое. Кураторы в своих экспликациях справедливо приводят драматические эпизоды борьбы государства с искусством (даже вполне лояльным, декларирующим свою верность): институциональные, идеологические, физические ( прямые репрессии). О последних, о прямом воздействии, и говорить не приходится: тут не до вопросов творческой эволюции. Тут против лома нет приема. Далее всё сложнее. Репрессии трудно объяснить целесообразностью даже политической. Когда-то я работал над текстом о погибшем в 37-м г. замечательном карикатуристе Б.Малаховском. Так вот, у него были карикатуры «на вождей». В том числе на главного. И агент добыл доказательства. Финал был неминуем. Но агент со своим нарытым материалом не успел доработать дело и сгинул. Малаховский же позже был взят «по телефонной книге». Как поляк по национальности. Репрессии создавали соответствующую атмосферу, это правда. Институциональные моменты (создание творческого союза, канализация материальных средств производства искусства
лояльным, огосударствленным художникам, постепенное выдавливание неохваченных из публичной сферы) сгущали эту атмосферу. Формировалась внутренняя цензура, соответственно, даже готовые к любому сотрудничеству художники не вполне понимали, что от них хотят. Тем более, что совсем недавние властители умов, ревнители пролетарского миропонимания, специалисты по социологии искусства, тоже исчезали бесследно. Менялись, ломались многие. Но далеко не все. Было бы обидно субъектность искусства отдавать конъюнктурщикам и официозу. Всё-таки отход от авангарда (осуществленный многими в самом начале 20-х) был во многом внутренней проблемой искусства, и совсем не означал измены, бегства, сервилизма и пр. Была сложная и яркая судьба тематической картины, в которой можно найти и сакральный след (скорее, первобытно языческого толка), и культурно-антропологоическую аналитику петрово-водкинцев и , как это не парадоксально, матюшинцев, тоже сосредоточенных на том, что Фуко называл физичностью живописи. Были очень интересные нарративные решения. Был выход на стилевой уровень – апелляция к ар деко. Был повод применения гендерного анализа – чем объяснить нарастающую, в самые жестокие годы, эротичность Лебедева и Тырсы? А в решении Купервассер уйти из профессии ради семьи кое-кто увидит следы феминистского дискурса.
Николай Тырса (1887–1942)
Обнаженная натурщица с книгой на финской ткани. 1934
Холст, масло. 68×49,3
Холст, масло. 68×49,3
Владимир Лебедев (1891–1967)
Сидящая обнаженная натурщица. 1934
Бумага, акварель. 39,5×31
Бумага, акварель. 39,5×31
У меня вопрос – интересно, в других условиях, вне столь страшного прессинга режима, стал бы Русаков продолжать писать именно такие пейзажи? А так же Траугот, Пакулин, кто там ещё? Был ли так же обуян сказочностью Васнецов? Пахомов – так же был ли он верен детской теме? А.Толстова в статье о выставке, в целом вполне квалифицированной, назвала поздних мальчиков Пахомова, кажется, конфеточными. Но я думаю, возьми кто-нибудь из солидных кураторов пахомовских блокадных детей на выставку типа «Искусство сороковых» в МОМе, они стояли бы вровень с рисунками сцен в метро из серии Г.Мура. Просто использовали их дежурно, вот глаз и замылился.
Александр Русаков (1898–1952)
Андреевский рынок на Васильевском острове. 1938
Холст, масло. 52,5×65
Холст, масло. 52,5×65
Алексей Пахомов (1900–1973)
Витька. Иллюстрация к книге И. Демьянова «Два секрета». 1958. Бумага, акварель, графитный карандаш. 37×26,5
Тогда что же стоит за повторяемостью ленинградских пейзажей ( в блокадные годы ещё более пронзительных) с их прекрасной ясностью? За обнаженными Лебедева, то естественными, то как бы насмешничающими над зрителем? За бесконечными образами детей? В начале семидесятых выдвинули термин – третий путь. Слишком уж очевидно было, что этому искусству не по пути ни с соцреализмом, ни с авангардом. Новые поколения искусствоведов стали воспринимать это числительное как «третий по счёту», не самый важный. Так себе. В результате появилось представление о стариках, хранителях огня, которые интересны именно прикосновением к учителям, короткому мигу, когда они были здоровыми и молодыми малевичевцами, лебедевцами, матюшинцами, филоновцами и пр. Потом, дескать, сдали, да и как иначе, гонения то были ог-ог- ой!. Так вот. Называй это творчество хоть третий путь, хоть модернизм без манифестов, не важно. Только в горшок не ставь. Горшок априорных концептов. Мне представляется, что поколению, пришедшему в двадцатые, жизненно важны были два момента. Два момента уклонения, позиционирования. Первый – они должны были найти свою версию перехода от радикализма классических «измов» к чему-то своему, индивидуализированному. Второе – они должны были сохранить это свое индивидуализированное в пору, когда пришло время новых тотальных идентичностей ( уже не на уровне формообразования, а, скорее, канона, ритуала, который завел соцреализм). Таким образом, мы имеем дело с отказом от групповых идентичностей ради индивидуальных. Дело жизненной необходимости – конечно, не такого глобального замаха, как у великих предшественников. Там земляниты, планиты, проросль мировая. Зато понятно, к чему привело. Здесь – ближнее: женское тело, соседский мальчишка, вид из окна. Отрефлексировано ли это было – не знаю. Скорее, прочувствовано – отсюда почти ритуальная настойчивость, повторяемость действий : непростое это дело, писать-рисовать ню, крестьянок в поле, детей ( выставлялось редко, только вот иллюстраторы могли утилизировать натурное), сохранить это свое, собственно, - себя, в годы разнообразных исчезновений. Отсюда – самодостаточность, самопогруженность. И очень слабая поддаваемость внешним концептам. Спасибо Роману Бабичеву за то, что настойчиво собирал ленинградских стариков - упорных, упертых в своем жизнелюбии. Ещё бы им не быть жизнелюбивыми – это, пожалуй, они, а не младоконцептуалисты, - настоящие колобки. От одного ушли, и от другого ушли… А от новых напастей – концептов, иерархий, артикуляций – и подавно уйдут.